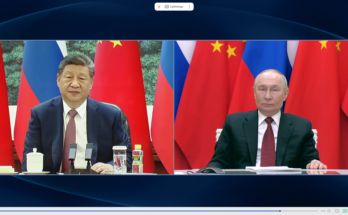Полтора века Сергея Тимофеевича Коненкова
Великий скульптор о себе
Сейчас вспоминаю первые, самые тяжелые месяцы жизни в Америке. Первая передышка – лето в дачном коттедже сестер Кеннеди. Вокруг дачных домиков – запущенный сад, а в нем великое множество пней и коряг. Не один из тех пней пошел в работу. И вот попалась чурка, как живая. Смотрю на нее и чувствую, будто кто-то на меня оттуда, подзадоривая, поглядывает.
Не сразу, конечно, а узнал: это был наш ельнинский мужик. Лихой мужичишка, занозистый. Глазки так и буравят, улыбка добрая, и такой он родной мне, что сил нет дальше разглядывать. Стал ту чурку обрабатывать – дня не прошло, выскочил ельнинский мужичишка наружу.
Много лет спустя, дело было уже в Москве, ко мне в гости пришел писатель Петр Андреевич Павленко. Увидел лесного старичка. Спрашивает:
– Как называется?
– «Мы – ельнинские».
– Это наше, – заволновался Павленко. – Наше истинное, кондовое. Русское.
За «это наше», русское, я крепко держался все годы жизни на чужбине. Не было часа в эти долгие двадцать два года, когда бы я не ощущал себя русским, гражданином СССР. А гражданство это не просто так: хочу – и буду.
Нет ничего тяжелее, чем сознание потерянной родины. Я сужу об этом по глубоким переживаниям Н.И. Фешина, с которым был дружен в Америке.
Имя Николая Фешина стало известно российским любителям искусства в 1910–1911 годах, когда этот художник, выходец из Казани, успешно выступил на петербургских и московских художественных выставках, а также имел успех на заграничных вернисажах. Первое впечатление от его работ было сильным и неожиданным.
Щедрый дар живописца и этнографа породил искусство смелое, поражающее зрителей глубокой и выразительной искренностью. Это был дар, органично развивавшийся в родной, до тонкостей знакомой среде. Надолго запомнилась зрителям первая крупная работа Фешина – «Свадьба у черемис». И хрупкая тонкость весеннего дня, и яркие краски напоказ при общей сумрачной гамме этого полотна должны были запечатлеть мимолетную радость в жизни крестьян. «Свадьба у черемис» Николая Фешина была отмечена премией имени А.И. Куинджи…
Самое дорогое в наследстве Фешина, драгоценное зерно его творчества – бесконечная преданность искусству живописи. Ей, реалистической полнокровной живописи, он не изменял никогда. Первое совместное с именитыми европейскими художниками – Клодом Моне, Писсарро, Ренуаром, Гастоном ля Туш, Сислеем – выступление русского живописца за рубежом сопровождалось признанием за ним первенства…
В то время как Малевич и Кандинский «завоевали» Запад абстрактными новациями, «настоящий мужик в искусстве» Николай Фешин показал образцы живописного стиля, которые стояли в одном ряду с искусством Ренуара и Моне.
Я не задаюсь целью доказать, что Фешин – этакая не замеченная целой Россией гениальная фигура. Нет, но Фешин по своей натуре был стихийным живописцем и столь же стихийным проповедником, учителем цветового мировосприятия.
Творчество этого одаренного живописца неизменно пользовалось вниманием и благосклонностью американских зрителей. У Фешина соколиный глаз и природное колористическое чутье. Рисовал он цветом безошибочно, свободно, широко. Рисунок у него настолько совершенен, что мастерства не замечаешь, когда рассматриваешь блестящие фешинские импровизации. В Америке картины Фешина приобретались за большие деньги. Успехом он пользовался огромным. В газетах писали: «Если вы хотите увидеть чудо, идите на выставку Фешина». А он, став фактически американским художником, художником преуспевающим, тосковал по России, признавался мне: «Бессмысленна жизнь человека на чужбине. Люди искусства не должны покидать своей страны! В чужой стране существуешь, а живешь – воспоминаниями. Одиноко мне здесь и тоскливо». Это состояние было очень понятно мне.
В начале 1926 года жившего в Нью-Йорке художника свалил новый приступ туберкулеза. Врачи рекомендовали ему сухой, солнечный климат. И, как я уже говорил, он оказался в городе Таосе на западном побережье Америки. Фешин построил себе деревянный дом, самолично украсил его крылечком и резными наличниками, как в России.
У меня в мастерской какой уже год висит мой портрет, подписанный энергичным росчерком из двух букв «Н.Ф.» – Николай Фешин. Портрет был как бы между делом исполнен в моей нью-йоркской студии в 1934 году, когда Николай Иванович позировал мне для собственного портрета. Гипсовый отлив скульптурного портрета Н.И. Фешина вернулся вместе со мной в Москву. Несколько лет назад я перевел его в мрамор. Мраморный бюст «Художник Н.И. Фешин» экспонировался на выставке произведений этого прекрасного русского живописца в его родной Казани. Туда же, в Казань, покинув на время мой дом, отправился исполненный Фешиным «Портрет С.Т. Коненкова». Так произошла еще одна наша встреча.
***
В Нью-Йорке, когда мы вернулись туда из Италии, проходил международный конгресс физиологов, на который прибыл из СССР академик Иван Петрович Павлов. Доктор Левин – любимый ученик Павлова – привел знаменитого ученого к нам в гости. Конечно, прежде всего мы попросили Ивана Петровича сделать «доклад» о советской жизни. Рассказ его слушали с огромным вниманием. Говорил Павлов умно и весело, был прост и ясен.
Общий язык мы нашли сразу. Павлов был тонким знатоком искусства, имел богатую коллекцию картин. Иван Петрович рассказывал нам о посещении в 1924 году «Пенатов», о позировании И.Е. Репину. «Я сидел в кресле, облаченный в белый врачебный халат, Илья Ефимович расспрашивал меня про то, как идет жизнь в Ленинграде, и увлеченно писал масляными красками. Портрет вышел бодрый, и знаете, светлый такой», – с ласковой интонацией в голосе произнес он последние слова.
Во время разговора Павлов как-то естественно жестикулировал. Иван Петрович жестами дополнял речь, ясно «обрисовывая» предмет. Слова и интонации сливались с движением жилистых рук. Это были руки хирурга, руки трудового человека – необыкновенно пластичные, выразительные.
Слушать Павлова было наслаждением. Разговор его был очень русским, богатым живыми народными оборотами речи. С первой же встречи Павлов поразил меня своей простотой и непосредственностью. В то же время каждое явление он рассматривал аналитически, ясно видя его исторический масштаб.
Тогда, в 1929 году, газеты писали о пробных рейсах немецких «цеппелинов» между Европой и Америкой. Иван Петрович допытывался у сопровождавшего его повсюду сына Владимира: «Ты не помнишь, за сколько такое же расстояние преодолевал дирижабль у Жюль Верна?» И тут же, вовлекая нас в разговор, вслух подсчитывал расстояния, средние и максимальные скорости, сравнивая фантастические представления Жюль Верна с тогдашними достижениями техники.
Я решил воспользоваться счастливым случаем и попросил Ивана Петровича позировать мне для портрета. Павлов согласился. Условились начать работу на следующий день, в десять утра.
Первые минуты создания нового произведения всегда памятны. Только начнешь придавать глине нужную форму, как пальцам передается особая рабочая настроенность.
Между мной и моей моделью сразу же возникли сердечные отношения. В Павлова я влюбился с первого взгляда. Мне хотелось облегчить Ивану Петровичу позирование. Я усадил его на обыкновенный стул и сам сел невдалеке, будто собрался не лепить, а продолжать нашу вчерашнюю беседу.
Павлов стал расспрашивать меня о поездке в Италию, о встречах с Горьким, о здоровье писателя. Заговорили о русских художниках. Павлов особенно высоко ставил работы Виктора Михайловича Васнецова.
– Его богоматерь во Владимирском соборе в Киеве я считаю равной Сикстинской мадонне, – сказал, как отрезал, Павлов.
Он жадно ловил каждое мое слово о том, каков был Виктор Михайлович в жизни.
Было жарко. Иван Петрович снял серый пиджак и привычным движением быстро засучил рукава. Он сидел передо мной, положив ногу на ногу; руки сцепил на коленях, словно держал себя на месте. У меня появилось ощущение, будто я давным-давно знаю этого человека. Глаза его выражали пытливость и проникновение в глубину жизни. Это настраивало на особый лад.
Для глины я приспособил небольшой низенький столик. Прикинул в уме пропорции, характер композиционного строя будущего портрета и ощутил в пальцах огонь нетерпеливого желания работы. Обязательно надо передать проникновенность его умных и веселых глаз, так хорошо выражающих силу интеллекта ученого.
В антрактах мы по-российски распивали чай с липовым медом, который Павлов любил больше всего на свете, и совершенно забывали, что дело происходит в Америке.
Оканчивался сеанс, и мы уславливались с Иваном Петровичем о дне и часе следующей встречи у меня в студии. Когда наступал этот день, в установленный час – минута в минуту – раздавался звонок. Меня всякий раз поражало то, насколько аккуратен старый ученый, один из тех, кому молва приписывает обязательную рассеянность и забывчивость.
«Как ухитряется он быть столь точным в огромном Нью-Йорке, где опозданием грозит любая задержка с транспортом?» – думал я про себя. Однажды прямо спросил об этом Павлова.
– Секрет прост, – объяснил он. – Я выхожу из гостиницы заранее и бываю у вашего дома за десять–пятнадцать минут до назначенного времени. В эти сбереженные минуты я с удовольствием прогуливаюсь по тротуару, а когда наступает время, звоню к вам. (Впрочем, так поступаю и я с тех пор, как познакомился с Иваном Петровичем Павловым.)
Правда, однажды с павловской точностью произошел курьез. Накануне, будучи у нас, Иван Петрович выглядел устало. Маргарита Ивановна спросила, не тяжело ли ему добираться сюда.
– Я с удовольствием приезжаю к вам, – ответил Павлов. – Вот только автомобиль… Знаете, не люблю я это механическое чудовище. Мне у нас дома, в Ленинграде, предлагали автомобиль. Я отказался. А здесь его терплю. Ах, если бы мне дали лошадку, – произнес он мечтательно.
– Завтра вы приедете к нам на лошади, – очень уверенно сказала Маргарита Ивановна.
Павлов, потирая руки, улыбался:
– Любопытно, любопытно…
Вечером Маргарита Ивановна отправилась в Центральный парк и договорилась с извозчиком, обычно катающим отдыхающую публику.
– Мистер, завтра будьте в половине десятого у клуба химиков. Там вы увидите старого джентльмена, его будет сопровождать человек средних лет – его сын. Вы их привезете на Вашингтон-сквер. Вот вам три доллара. Вы приедете? Это очень важная просьба.
– Что вы, миссис. Не извольте сомневаться.
Утро следующего дня. Часы бьют десять. Павлова нет. Мы волнуемся. Строим всяческие предположения. Выглядываем в окно – не покажется ли лошадка с тремя седоками. Ничего похожего нет. И вот в половине одиннадцатого к нам буквально врывается разъяренный Павлов.
– Что вы меня дурачите? Я в жизни своей не опаздывал. Теперь день у меня разбит. Простите, и позировать сегодня я не могу-с!
Одним словом, форменный скандал. Маргарита Ивановна бросилась в парк узнать, что случилось с тем извозчиком.
– Сударь, почему вы меня обманули? – строго спросила она возницу.
– Что вы, что вы, миссис! Я ничего не забыл. Утром я попробовал отправиться по указанному вами адресу, но лошадь, сколько я ее ни бил, не пошла. Двадцать лет она ходит только вокруг парка…
При встрече все еще до крайности смущенная Маргарита Ивановна стала пересказывать ученому то, что сообщил ей извозчик. А Павлов вдруг просиял и, вскочив с места, восторженно проговорил, обращаясь к нам как к свидетелям:
– Вот видите, моя теория подтверждается!
Конечно же, речь шла о знаменитых павловских условных рефлексах.
Павлов очень не хотел выглядеть в Америке смешным, неосведомленным провинциалом и расспрашивал нас о всех здешних житейских обычаях.
Например, его озадачил тот факт, что мужчины, войдя в лифт, сняли шляпы.
– Надо ли мне снимать шляпу? – спросил совета Павлов.
– Надо, если едут в гости к одному и тому же хозяину.
Иван Петрович тут же признался, что он вчера снял шляпу в лифте большого универсального магазина.
– Вот видите, к чему приводит неосведомленность.
В один из своих визитов к нам Павлов пожаловался:
– Надоела мне здешняя пища. Все какая-то безвкусная трава.
Тогда повели его в знаменитый русский ресторан «Медведь». Подали русскому профессору меню в две сотни всяческих блюд. Он посмотрел, сощурясь, на этот поварской гроссбух и попросил официанта:
– Голубчик, мне, пожалуйста, борщ, сырники и чай. Больше я ничего не хочу.
Официантами в ресторане, по американскому обыкновению, служили студенты. Павлов для них – человек святой. Так что заказ его приняли и исполнили мигом. Иван Петрович стал постоянным посетителем этого ресторана. Спрашивал всегда борщ, сырники и чай. Я помню, как однажды, подав нам еду, официант-студент – высокий красивый парень в голубой рубахе – сказал, обращаясь к Павлову:
– Иван Петрович, нынче я последний раз вам служу. Завтра я кончаю университет.
– В добрый путь. Да и мне пора домой.
На американцев, на весь научный мир, собравшийся летом 1929 года в Нью-Йорке, Павлов произвел огромное впечатление. Естественно, мы гордились Павловым и молодой советской наукой, делавшей такие успехи. При прощании не было конца приглашениям еще раз посетить Америку. Павлов, поднимаясь по трапу, махал рукой и энергично произносил одно только слово:
– Прилечу… Прилечу…
Павлов предстал передо мной окруженным почетом академиком, патриотом молодой республики Советов, человеком большой культуры, но в моей памяти наиболее яркое впечатление оставила его русская душа, крестьянская его натура, замечательная его простота и открытость.
***
Встречи с Павловым, его неотразимое человеческое обаяние с новой силой воскресили желание вернуться к образу Ленина. Слитность с думами и чаяниями народа, органический демократизм, простота и понятность всем и каждому – эти знакомые по личным впечатлениям качества В.И. Ленина хотелось отразить в скульптуре. И уж так всегда бывает у художников: о ком думаешь, тот и не сходит у тебя с мольберта или скульптурного станка. Я за время жизни в США десятки раз обращался к образу Владимира Ильича Ленина и трактовал его как образ неповторимого вождя-трибуна, и как мыслителя научного склада, и как образ гениального русского человека.
Лев Толстой – другой духовный властитель мирового масштаба – там, в Америке, особо близок и дорог был мне простонародной мудростью своей. Я вырезал в дереве небольшую фигурку Толстого: босой, с посохом в руке, в длинной крестьянской рубахе, он идет по русской земле.
Все годы заграничной жизни меня не оставлял трагический образ Достоевского. То он мне представлялся тяжело больным, истерзанным сомнениями, отчаявшимся человеком, и тогда являлась на свет символика безнадежности. В 1925 году я изваял на свет божий фигуру закованного в цепи, погруженного в пессимистические раздумья писателя. Но ведь могучий дух его побеждает трагические обстоятельства жизни.
Я вновь и вновь перечитывал удивительной силы отрывок «Записок из мертвого дома», где рассказывается о том, как в остроге арестанты, долго ухаживавшие за подбитым орлом, сбросили раненую птицу с вала на волю, в степь.
«Орел пустился прямо, махая больным крылом и как бы торопясь уходить от нас куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова.
– Вишь его! – задумчиво проговорил один.
– И не оглянется! – прибавил другой. – Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!
– А ты думал, благодарить воротится? – заметил третий.
– Знамо дело, воля. Волю почуял…»
Вот таким раненным, но не побежденным орлом представился мне и сам автор, когда я, перечитывая Достоевского, добрался до «Записок из мертвого дома», которые сравнимы с фресками Микеланджело.
***
Шел 1933 год.
В Германии к власти пришел Гитлер. Будущее человечества подвергалось серьезной опасности.
Я думал о Достоевском как о могучем мыслителе, находящемся рядом со мной. Кто еще, как он, понимал и ненавидел зло, кто, как он, мог проникнуться людскими страданиями? Большая заслуга – победить зло, но не менее важно вывернуть наружу и показать свету темную душу зла. Вечно ли зло и насилие? Сгинет ли тьма? Эти трудные мысли, тяжкая дума о будущем одолевают моего героя.
Прекрасным натурщиком на эту позу стал пресвитер одной из нью-йоркских баптистских общин Борис Васильевич Букин – человек, жаждавший нравственного совершенства, книгочей и домашний философ.
Достоевский – явление органически русское, и, само собой разумеется, натурщиком должен быть русский человек. Борис Васильевич был как раз то, что надо. С ним поговоришь – душу отведешь, а истовый характер этого бывшего дьячка русской сельской церкви под стать создаваемому образу.
Доходы баптистского пресвитера были таковы, что своих пятерых детей он прокормить не мог, но стойкости не терял. Богатые американцы черствый хлеб не ели. Купленный утром хлеб к вечеру выносился в специальные коробки, которые стояли на лестничных площадках. Букин, вооружась мешком, ходил из подъезда в подъезд и теми черствыми кусками кормил семью.
А как Букин говорил и сколь великий патриот собственного очага жил в нем!
– Букин, подите послушать певицу Плевицкую!
– Что вы, Сергей Тимофеевич! У меня дочь – чудесная певица.
– Кто же ее учил пению?
– Как кто? Я обучал ее петь на шестые гласы. Приходите-ка к нам: заслушаетесь до слез.
***
Букинский источник добычи хлеба насущного напомнил неприятный, с моей точки зрения, обычай американцев выбрасывать на улицу все, что им не нужно. Например, сменилась мода на мебель, и состоятельные люди выгружают прямо на мостовую кресла и столы, кушетки и серванты, диваны и кровати. Вещи добротные, дорогие, только чуть-чуть поношенные. Когда я видел выброшенную на улице мебель, то всякий раз огорчался. Труд человеческий выбрасывают – как им не жалко! Возможно, в виде протеста решил я тогда сделать мебель, которую не выбросишь, потому что она не имеет никакого отношения к моде.
Материал нашелся сам собой. Неподалеку от моей мастерской шумел кронами могучих деревьев Центральный парк Нью-Йорка. Он в свое время был разбит на каменистом острове Манхэттен (деревья сажали в насыпной грунт), и поэтому после каждой бури десятки огромных деревьев лежали с вывороченными из земли корнями, будто сраженные ударом в грудь исполины. Немало труда требовала разделка и транспортировка упавших деревьев. Зато материала, предназначенного для изготовления «вечно модной» мебели, у меня избыток.
За эту работу, как помнится, взялся я всерьез в тридцать пятом году. Кое-что сделалось само собой еще раньше. Это кресла «Сова» и «Удав», которые выросли не в нью-йоркском Центральном парке, а в иных местах.
В тридцать пятом из причудливого, колоссальных размеров пня топором и стамеской вырубил да вырезал «Стол». Что бы вы ни положили на гладкую столешницу – книгу или коробку конфет, фрукты или цветы, – тотчас за вашими намерениями станут наблюдать любопытные ребятишки: со всех сторон они прилепились к столу и смотрят озорными детскими глазами.
Когда я жил на Пресне, у меня в студии дневали и ночевали здешние ребятишки. Я баловал их конфетами, давал пятачки и гривенники на кулечки-фунтики со спелой сладкой малиной и кисло-сладкой красной смородиной, играл с ними в шумные пятнашки – одним словом, водил с детьми дружбу. И вот теперь их лукавые рожицы я навсегда пригласил к себе в гости. Тогда же изваял из комля могучего дуба «Кресло» – по сей день в нем сижу – и стул для собеседника: за узенькой спинкой его пристроился ласковый старичок Алексей Макарович. «Кресло с птицами», «Столик с белочкой», «Кресло паутинка», «Столик с гномом и кошкой», выдолбленные в стволе ларцы, «Козлоногий музыкант» и «Лесная кикимора» рождались друг за другом, становились одновременно нужными вещами и украшением нашей нью-йоркской квартиры.
Об этой мебели распространилась молва. Взглянуть на нее приходили малознакомые и совсем незнакомые люди. Появилась у нас в доме – вот ведь как их проняло! – миссис Джан Рокфеллер.
– Сколько стоит ваша мебель? – последовал вопрос.
– Эти вещи мне не принадлежат. Я подарил их моей жене.
Миссис Рокфеллер, полагая, что мы торгуемся, набиваем цену, обращается к Маргарите Ивановне:
– Продайте мне эту мебель. Я заплачу столько, сколько вы спросите.
– Нет. Я не могу этого сделать. Это подарок – он не продается…
***
В 1937 году повсеместно отмечалось столетие великой печали России – гибели поэта. Словно вихрь налетел, роем закружились в голове пушкинские строфы, и слышен был его голос. По представлению, каким он вдруг открылся, без каких-либо побуждений извне я вылепил Пушкина. Не знаю, хорош ли он вышел. Но это был мой Пушкин – весь, целиком.
Мариамов, состоявший в комиссии по подготовке пушкинского вечера, уговаривал меня поставить гипсовый бюст поэта на сцене.
«Пушкина» водрузили на высокий пьедестал вблизи авансцены, и каждый участник вечера – выступал ли он с речью, читал ли стихи – невольно обращался к бюсту поэта. Центральным номером программы было выступление Марии Куренко. Певица появилась на сцене в костюме Татьяны Лариной. Ее горячо приветствовали, ей дарили удивительной красоты венки живых цветов, и она с грацией пушкинской Татьяны величаво и задушевно один за другим складывала эти венки у подножия импровизированного пьедестала.
Ощущалось в ее свободном величественном шествии по сцене шаляпинское начало. У Шаляпина учились все, и не зазорно было подражать ему – великому артисту, реформатору оперного искусства.
Я смотрел на Куренко, а мне слышались громовые раскаты шаляпинского голоса.
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
А в Париже угасал тот, кому, казалось, сам Пушкин вложил в уста гениальные слова «Пророка». Печальные известия о болезни Шаляпина приходили в Нью-Йорк с другого берега Атлантического океана. Страшно было представить угнетенного недугом, слабеющего титана.
Давно ли приезжал он сюда в Нью-Йорк, чтобы представить местной художественной интеллигенции сына Бориса – художника-декоратора, портретиста.
В отеле «Плаза» Шаляпин устроил тогда прием. Встреча прошла интересно. Борис как-то очень естественно, просто вошел в нью-йоркский художественный мир.
Борис Федорович под руководством отца делал декорации к парижской постановке «Дон-Кихота». К этому времени относятся первые портреты Федора Ивановича кисти Бориса. В 30-х годах молодой Шаляпин был художником с заслугами. Но Федор Иванович – прекрасный, заботливый отец – не жалел алмазов своего обаяния, устраивая сына на постоянное жительство в Нью-Йорке.
Когда же встретились у меня в мастерской, так сказать, в домашней обстановке, молодой Шаляпин с любопытством рассматривал бюст отца, отлитый из гипса в 1925 году.
Когда я лепил Шаляпина, он был в зените славы. Свобода выражения, с какой Шаляпин развернул перед всем миром свой огромный талант, восхищала меня, вдохновляла в работе над портретом артиста. Я изобразил его с сомкнутыми устами, но всем его обликом хотел передать песню. Вот-вот она сорвется с этих уст. Шаляпин только приготовился петь, а вы уже загипнотизированы и покорены его могучим даром.
Песню и музыку нельзя вылепить в буквальном смысле этого слова. В любом материале скульптуры – своя музыка. Ее я стремился вызвать к жизни, когда с огромным воодушевлением работал вместе с Шаляпиным над его портретом.
…Прошел год. Шаляпин был совсем плох. Радио передавало бюллетени о состоянии его здоровья. 12 апреля 1938 года мы не отходили от радиоприемника ни на минуту. Последние часы жизни гениального артиста были одухотворены великой печалью всего культурного человечества. Слезы покатились из глаз моих, когда парижский диктор известил мир: «Шаляпина не стало»…
Дружеская и творческая связь моя с Шаляпиным длилась не одно десятилетие. Он был мне дорог и близок, как певец, открывший безграничную власть музыки над человеком. Мне понятны были и широкий характер артиста и его слабости. Он был рожден великим народом и явил миру титаническую духовную мощь русского человека, проявившуюся в нем во всей полноте.
Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю исключительность явления, имя которому – Шаляпин. Он весь был феноменальным и потрясающим – живой Святогор!